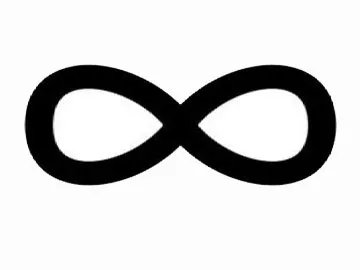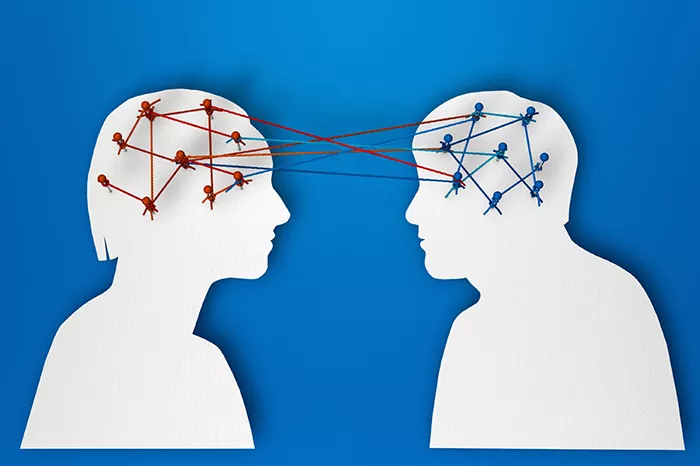Для исследователей народной культуры большой интерес представляет вопрос о том, что именно в системе ценностей традиционного общества причислялось к признакам, отличающим человека от мифологических персонажей (не-человека).
Если, например, учитывать характеристики внешнего вида, то показателями демонической сущности часто выступают признаки телесных аномалий (хромота, слепота, одноглазие, горбатость, ненормальное количество пальцев и т. п.), необычный рост (чрезмерно высокие или низкорослые существа), особенности волосяного покрова (косматость, отсутствие бровей, волос подмышками, сросшиеся брови и т. п.), непривычная одежда, зооморфные признаки (хвост, рога, звериные или птичьи лапы).
По некоторым приметам отмечалась также связь персонажей нечистой силы с загробным миром: бледность, костлявость, прозрачность, закрытые глаза, незрячесть, молчаливость, неподвижность, либо такие свойства, как мокрая одежда, отсутствие тени, специфический запах и ряд других.
В подобных характеристиках признак отклонения от нормы проявляется не только в категориях негативных свойств, но и в формах положительно оцениваемых черт, т. е. в качестве типичных для мифологических персонажей примет внешности могли выступать как признаки уродливости, так и совершенной красоты (ср. противоречивое описание внешнего вида русалок, полудниц, самодив, богинок, ведьм). Таким же образом сфере “нечеловеческого” приписывались такие свойства, как нелюдимость, угрюмость, вялость, нерасторопность, обидчивость, мстительность, злобность и – наряду с этим – высокая степень подвижности, сноровки, удачливости, владения ремеслом, искусством пения, танцев, игре на музыкальных инструментах.
Таким образом, в наборе признаков, характеризующих человека, основным является понятие нормы, присущей для внешнего вида и поведения носителей “своей” культуры, а отличительные особенности, характеризующие сферу “чужого”, определяются как нарушение нормы: чрезмерно красивые или некрасивые, уродливые существа, с телесными или психическими отклонениями, в необычном наряде, говорящие на ином наречии, ведущие себя не по принятым в данном социуме правилам, особенно удачливые, ловкие, наделенные способностями или – наоборот – обездоленные, нерасторопные, необычного поведения.
Весьма показательными в наборе признаков мифологических персонажей являются также акустические стереотипы их поведения. Согласно народным поверьям, контакты людей с нечистой силой чаще всего происходили по ночам, в сумерках, в полумраке, когда черты внешнего вида были неясны, расплывчаты, плохо различимы. В такой ситуации особое значение приобретали именно слуховые впечатления, на основе которых можно было обнаружить само присутствие духов и пытаться их идентифицировать.
Далеко не все персонажи народной демонологии характеризуются особыми, присущими им знаками акустического поведения. Например, несущественными оказываются эти признаки в характеристиках полудемонических существ: ведьм, колдунов, знахарей, планетников, т. е. людей со сверхъестественными свойствами, живущих бок-о-бок с односельчанами и встречающихся с ними в повседневной обстановке. Отсутствием ярко выраженных звуковых примет поведения отличаются некоторые духи, особенностью которых считается, но народным поверьям, их безгласие, молчаливость, бесшумное появление (ночница, бессонница, привидение, мара, блуд и др.).
Есть, однако, в славянской демонологической системе такие персонажи, которые не могут быть адекватно описаны вне категорий звукового кода. Их акустические характеристики настолько устойчивы, что в ряде случаев можно говорить о своеобразном звуковом портрете демона.
Основной набор стереотипов звукового поведения мифологических персонажей включает три группы акустических характеристик:
- звуковое поведение в пространстве дома (и внутри разного рода строений);
- звуковое поведение в локусах открытого природного пространства;
- речевое поведение нечистой силы.
В пространстве человеческого жилья духи, обитающие в доме или вторгающиеся извне, дают о себе знать приглушенными ночными звуками, неясным шорохом, скрипом, треском, стуком. В восточнославянской демонологии практически все виды ночных шумов в доме обычно приписываются домовому. На вопрос о том, как выглядит “домовик”, работавшие в Полесье собиратели получали массовые ответы: “домовика не бачыш, а чуеш”, “его не побачыш, кажуть, а буде шумиты у хати”, “нихто его не бачыу, полягаем спати и слышно – по потолку ходе: тух, тух, тух!” [ПА].
Звуковые сигналы, посылаемые невидимым домовым, воспринимались домочадцами как его недовольство поведением людей или как предостережение, предвестие беды. Полешуки говорили: “Як што гукае цы стукае ноччу, – ето признак плохой. Кажугь у нас, што ето домовик гукае, осцерёгу дае, плохое предвешчае” [ПА, Стодоличи Гомельской обл.]; “Як треск в углу, – домовый невидимый беду предсказывает стуком” [ПА, Засимы Брестской обл.]. В других ситуациях считали, что неясные ночные звуки были свидетельством того, что домовой таким образом выражал желание вступить в контакт с домочадцами и что в ответ на это следовало спросить домашнего духа: “к добру иль к худу” он отзывается.
Таким образом, все виды шумов, производимых домовым, осмыслялись в народной среде как своеобразный “язык” общения, т.е. звуковые сигналы нечистой силы имеют своим адресатом человека. Это особенно заметно на примере контактов в замкнутом пространстве дома (или других строений). Оставаясь невидимыми, домашние духи дают знать человеку о своем присутствии: “Домовик признак дае, – его не углядит: чы ведром стукне, чы клямкою, чы ложкой бракне” [ПА, Хоромск Брестской обл.]. Таким образом они стараются предостеречь, предсказать будущее, напомнить о нормах правильного поведения, о выполнении соответствующих обычаев, наказывают, пугают, выражают свое недовольство (например, тем фактом, что в доме ночует некто чужой, не принадлежащий данной семье).
В соответствии с русскими поверьями, домовой по ночам воет, предсказывая беду; пляшет, поёт, предсказывая свадьбу; кряхтит и охает в переднем углу, предвещая смерть; гремит посудой, предостерегая о пожаре; отзывается стуком в заднем углу, если пытается выжить хозяев из дома [Максимов 1989, с. 29; РДС, с. 153].
Широкое распространение в восточнославянских поверьях имеет мотив о том, что домовой звуками пугает заночевавшего в доме гостя, чужака или пытается его выгнать. Так, в одной из сибирских быличек оставшаяся на ночь в доме учителя старушка услышала странные звуки: “Вот так, говорит, засвистело, да так вот кругом просвистало – да ко мне! Ко мне, да на меня говорит “Хы!”” [Зиновьев 1987, с. 65]; а оставленный на ночь в хозяйском доме нанятый работник вдруг услышал угрожающее бормотанье: “Уматывай, гыт, отцель!” [там же].
Подобная ситуация конфликта между истинным “хозяином” дома и въехавшими в него жильцами прослеживается в быличках, повествующих о первой ночевке людей в новой или в чужой хате: “Купили хату. Спать легли и слышат: шаги, стук, грякае, ляпае” [ПА, Челхов Брянской обл.]. Особенно часто тревожат ночные шорохи и звуки тех, кому довелось заночевать в пустующих избах, банях, лесных сторожках. Считалось, что, располагаясь там на ночлег, следовало испросить разрешения у “хозяина” этого строения: “Мужик ехал домой откуль-то. И стояла избушка в лесу. Просто одна, в ней не жил никто. И он придумал, значит, ночевать остаться А вот не спросил, когда входил-то, дескать, пустите меня переночевать! Но и лёг. Лежал, лежал: всё трещит, всё шумит. Ну, прямо ужась, такая ужась, что страшно лежать. И убежал. “Он” его просто выживал” [Зиновьев 1987, с.63-64].
Вместе с тем, и столкновение людей – хозяев собственного дома – с “чужим”, проникшим в жилье духом, приводит к сходным результатам беспокойных ночёвок. В одном из полесских свидетельств сообщается, как при разрушении церквей в первые годы советской власти активисты сжигали иконы, а верующие пытались их спасти. Одна женщина, припрятав церковную икону, принесла её в свой дом: “Приходить нуч. Як начало свистать по хати, лонотиты. Перелякались все – да ничого не бачат” [ПА, Лисятичи Брестской обл.]. Особый интерес представляет здесь тот факт, что присутствие в доме чужой иконы (лика святого) воспринимается в тех же категориях, что и вторжение в жилое пространство “нечистых” духов – во всяком случае, акустический знак такого присутствия идентичен.
Таким образом, звуковые сигналы служат обычно целям коммуникации домовых духов с обитателями дома. Характерно при этом, что когда незримые мифические существа позволяют себя увидеть или обнаруживают своё присутствие звуками, то чаще всего это воспринимается людьми как знак беды.
Сходными стереотипами акустического поведения характеризуются приходящие в дом по ночам души умерших родственников. Причины их появления, определяемого по звукам, не столь очевидно связаны с предсказательными функциями (как это отмечалось в контактах с домовым). Возвращаться в свой дом умерших вынуждают законы сакрального времени, по которым им предписано вторгаться в мир живых на третий, девятый, сороковой день после смерти, в годовые поминки, в определённые календарные праздники. Однако и они часто дают о себе знать в случае нарушения людьми норм ритуального поведения (например, когда для покойников не оставили поминальной пищи, нарушили какие-то запреты, заняли отведенные для них места и т. п.).
Опущенные во многих записях быличек мотивации событий, связанные с нарушением запретов, легко восстанавливаются на основе широкого фона внетекстовых демонологических верований. Например, в одной из сибирских быличек рассказывается случай, как мальчик просил у матери разрешения лечь спать на печи; мать его отговаривала, “но я уперся на своём, прошусь – и всё тут. Ну, она и согласилась. Лёг я, значит, на печку, совсем уже начал было засыпать. Слышу: вроде как козочка скачет по полу. А у нас-то сроду коз не держали. Слышу дальше, вроде как кто-то крючок откинул, а дверь не открылась. Потом копытца по полу – “туп-туп” до печки (а у нас там вперед бабушка спала, котора тогда как раз умерла). Я как заору: “Мама!” – и к матери” [Зиновьев 1987, с.68]. Этот текст помещён в сборнике (с нашей точки зрения – безосновательно) в разделе быличек о домовом. В действительности, речь, по-видимому, идёт о ситуации прихода в дом умершего предка и о том, что печь на некое поминальное время воспринималась как принадлежащий ему локус (иначе непонятны возражения матери на просьбу сына спать на печи, – у русских это традиционное место ночлега для стариков и детей).
По данным русских мифологических рассказов, после смерти хозяина в доме часто слышатся шаги на чердаке, скрип половиц, слышно в сенях, как будто кто-то обдирает лыко [Зиновьев 1987, с.269]. На сороковой день после смерти деда в два часа ночи домочадцы слышали: кто-то в дверь стучится, шаги слышно, “ажио снег хрустит под дверью” [там же, с. 270]. В Полесье тоже чрезвычайно популярны рассказы о ночных посещениях умерших родственников: “Сын помьёр. Робили пбминки на сороковый день. Як посели за стол, – и чутно: двери раскрылися и закрылися. И так несколько раз. А шагов никаких… То мэртвые ходять на поминки” [ПА, Замошье Гомельской обл.].
Сходные свидетельства известны и в польских Карпатах: “После похорон несколько дней умерший навещает свой дом, по ночам дает знать о своем присутствии: ходит на чердаке, стучит в потолок” (Новы Сонч, архивные свидетельства). По верованиям населения Вармии и Мазур, если кто-то умер вдали от дома, то душа его прилетает к дому и по ночам дает знать родственникам о смерти: слышится стук в окно, скрип, хлопанье дверьми [Szyfer 1975, s. 134].
Типичными для многих славянских традиций можно считать такие представления, в которых звуковые сигналы являются свидетельством того, что души умерших приходят в дом в поисках оставленной для них поминальной пищи: слышны звуки переставляемых горщков, звон посуды, скрежет ножей и ложек, иногда можно различить якобы и приговоры духов, комментирующих вкус еды. Так, в русской быличке повествуется, как после смерти хозяина в доме по ночам было слышно, что кто-то черпает ложкой и приговаривает: “А у них кисель-то вкусный!” [Зиновьев 1987, с. 80]. По рассказам польских гуралов, души умерших по ночам бродят по дому, заглядывают в горшки, оставленные в печи, устраивая шум и звон [Wierchy 1931, rocz.9, s. 20].
Примерно один и тот же набор ночных звуков, слышимых людьми в замкнутом пространстве, может свидетельствовать о присутствии в доме разных мифологических персонажей. Например, обычно невидимая кикимора дает знать о себе скрипом, топотом, стуком, грохотом падающих предметов, звоном посуды или печной заслонки. Банник выдает себя звуками шаркающего веника, шорохами и стуками, звуками бросаемых камней. Безличная нечистая сила в заброшенной избе по ночам кричит, шумит, свистит, поет, “стукочст”, “ляскает”.
В восточнославянских быличках с тематикой о строительстве нового дома и первой ночевке в нем людей непонятные ночные звуки описываются как центральное сверхъестественное событие всего рассказа. Хозяева вновь построенного дома не могут спать: “ночью уж такой тарарам подымается, будто вёдра друг об дружку стукаются, переворачиваются. Гром, шум ужасный стоит…”; “ишо не успел уснуть, слышу (а темно, свету-то нету), слышу, говорит, музыка заиграла, пляска поднялась!” [Зиновьев 1987, с.86, 87]. Происхождение подобных звуков связывалось, по народным поверьям, с порчей, наведенной на дом строителями в наказание хозяевам за недостаточную оплату. Считалось, что в “испорченной” избе изначально поселялась нечистая сила, от которой трудно было избавиться. Наиболее типичными акустическими знаками её присутствия в доме были: громкий шум, гул, стук, звон, цокот копыт по полу, хлюпанье воды, завывание, свист, музыка, топот пляшущих и т. п. Запугивающая функция этих интенсивных шумовых эффектов была очевидна для ночлежников, – ни прорицательной, ни контактоустанавливающей семантики эти звуки не содержали.
Некоторым персонажам приписывалось воспроизведение звуков выполняемой работы: домовые, черти, умершие, хлевники, овинники якобы молотят но ночам в сарае, шуршат метущим веником, пересыпают зерно, бьют молотом по наковальне, толкут зерно в ступе. Преимущественно женские мифические существа (кикимора, домовиха, мара, русалка) производят звуки прядения и тканья. В Вологодской губ. верили, что перед бедой кикимора отзывалась но ночам стуком коклюшек из-под пола, будто плела кружева [Власова 1995, с. 171].
Если в пространстве жилья духи обычно дают о себе знать звуками, основанными на разных шумовых сигналах, то находясь за пределами дома, они часто отзываются, подавая голос: кричат, воют, стонут, плачут, окликают, зовут, охают. В Полесье мотив окликания человека по ночам связан преимущественно с образами “ходячего” покойника, чёрта, домовика (последний осмысляется в этой зоне как приходящий извне вредоносный дух). Вот одно из наиболее характерных свидетельств этого типа: “Среди ночи окликаеть дамавик, вроде, есть такий. “Наташо! Во-о-о, Наташо!” – то начный дух. Яго нихто не видить. Мне сказывали, никогда не отзывайся, бо то чалавек плахой – тьфу, тьфу, с хаты ветром здувае, дымом нясе…” [ПА, Жаховичи Гомельской обл.). В другом рассказе, что-бы избавиться от ночных “окликаний”, мать и дочь достают у знахарки мак-“ведун” и посыпают им вокруг хаты. “Дождали ночы, дак уже гукнуло, а я не пойму, – мне здалося, шо оно каже: “Мамо! – гукае – Мамо!” Мне придаёцца, шо дочки гукае, её голос . Встали у ранци, дак дочка каже: “Мамо, гукало ци не?” Я ка: “Гукало, донько, да так далёко. Десь не пуд окном, а мабуть, де я посеяла (маком), дак туды дойшло, а до хаты уже не посмело прийти” [ПА, Копачи Киевской обл.].
Голоса умерших неестественной смертью могли слышаться на месте их гибели или погребения. Во многих местах верили, что голос покойника слышится ровно в полдень или полночь: “На том мисти, дэ умре людына, убили, то прэчуваеца голос. То у двенадцать часоу дня чы ночы. Оно йойкат, – то нэчысто!” [КА, Новоселица Закарпатской обл.]. По полесским верованиям, душа погибшего человека стонет, плачет, подает голос на могиле или вблизи от креста, поставленного на месте гибели: “Што утопицца – поставлять крыжа, да душа плаче, на тый крыж вылазить. Одын утопиуса оно там бродыть, брахостыть на тых кладбишчах. Вот это так на моглицах брахостёло, прамо як вода брохае, як вин сам брахостёл в етым озере. Прамо: брах-брах-брах!” [ПА, Нобель Ровенской обл.].
Интересен сам набор глаголов, характеризующих неясные ночные звуки, производимые умершими или домовыми духами; по полесским данным: кто-то “лопотыть по хати”, “бухае в сенях”, “гупкае у стину”, “ляпае по полу”, “брякае или грякае ложкой”, “гукае”, “галосить”, “голёкае”, “харчит”, “брохае” и др.
У южных славян сохранилось интересное поверье, что голос убитого или случайно погибшего человека будет слышен на месте его гибели до тех пор, пока не “выветрится кровь” с места трагедии [Пирински край, с. 470].
Рассмотренные выше стереотипы звукового поведения домашних духов и персонажей, проникающих в человеческое жильё, имеют ряд отличий от акустической характеристики нечистой силы, средой обитания которой считаются природные локусы. Это уже не приглушенные шорохи, шаги, стук, треск, скрип, различимые в ночной тишине в пространстве дома, а всё многообразие звуков природы. Например, леший, по народным представлениям, способен отзываться зычным криком в виде эха, подражать голосам животных и птиц, производить звуки лесного шума, гула, треска ломающихся в бурю деревьев, завывания ветра и т. п. В целом в русских поверьях лешему приписывается манера весьма шумного поведения: он оглушает человека диким рёвом, его свист и уханье слышны на многие версты, он гонит зверей громогласными окриками “го-го-го!”, хохочет на весь лес, хлопает в ладоши [Власова 1995, с.204-206].
Самым типичным акустическим знаком лесного духа восточнославянских поверий считается громкий хохот, который слышится из лесных зарослей или которым он пугает при встрече с человеком. Звуковые сигналы, отличающие лешего от домового, не только более интенсивны по силе звука, но и гораздо более многообразны по форме. Леший якобы мог подражать голосам любых животных: от медвежьего рева до комариного писка. Белорусы рассказывали, что он ржёт, как конь, когда весел; воет волком, когда ему грустно; рычит, как медведь, когда зол [Богданович 1895, с. 79]. На Русском Севере полагали, что леший может лаять собакой, мяукать, стрекотать, как сорока [Крииичная 1993, с. 11].
Приписываемые ему звуки направлены не только на человека, оказавшегося в лесу, но и на зверьё, которое он “пасёт”, охраняет, предостерегает от опасности. Функции акустических знаков лешего – это и напоминание человеку, кто является “хозяином” местности, и выражение недовольства его поведением в лесу, и стремление испугать, подшутить, согнать со своего пути. Заманивая путников на бездорожье, коварный леший меняет своё звуковое поведение: он отзывается мычанием коровы, которую человек разыскивает; перекликается голосами знакомых для заблудившихся людей; подражает гудкам машины, детскому плачу, женским вздохам и т. н. Стремление оглушить находящегося в лесу человека громким криком, ввести его в заблуждение, сбить с толку, испугать зычным голосом, одурачить, расхохотаться – характеризует лешего в большей степени как проказника и весельчака, чем грозного вредоносного духа (ср. одно из севернорусских названий лешего – “гаркун”).
В демонологических поверьях Русского Севера звуковое поведение этого персонажа подтверждает одну из его основных функций – поддразнить вступившего в его владения человека, посмеяться над его бессилием перед “хозяином” леса. В одной из быличек жена охотника на медведя отговаривает его идти в лес: “”Не ходи на охоту, не время!” Ну, раньше были поверья – в такой день нельзя ходить и в такое время…”. Однако дед все же пошел. Сидит он в засаде, слышит какой-то хруст в зарослях, пытается в ту сторону выстрелить: “Хотел стрелить – руки не поднимаются, отнялись и всё. Ни крикнуть, ни двинуться – ничего не могу. Слышу в кустах затрещало, захохотал тут (леший) таким голосом громким: “Что,– говорит,– не можешь стрелить? Не сможешь и не убьешь!” Ишо раз захохотал, затрещали кусты. Он ушёл” (Зиновьев 1987, с.46-47].
Любимым занятием лешего было безобидное передразнивание человеческой речи. Например, встретив лесного “хозяина”, человек, не узнавший его, спрашивает: “Что, дяденька, ищешь коней?” А он во весь-то лес: “Ха-ха-ха! Что, дяденька, ищешь коней?” [Криничная 1993, с. 11]. В другом рассказе леший морочит головы бабам, собиравшим в лесу ягоды. Те увидели на лесной тропе группу мужиков с косами, идущих как бы на сенокос: “”Ой, да и косыньки-то как хороши!” – похвалили бабы. В ответ косцы хохочут: “Хо-хо-хо! Ой, да косыньки… Ой да косыньки…” И так в лес пошли и всё кричали и кричали. А это лесовики, наверно, были. А показались они народом” [там же, с. 14].
Подобно лешему, громкие звуки (крик, рев, свист, плач) способны издавать и многие другие мифологические персонажи: боровик, полевик, чёрт, “заложные” покойники. По рассказам полесских пастухов, в ночном можно было услышать голос боровика: “Таким голосом рэвэ вин – страхый голос Цэ уже една нич така бувае у году, шчо лякае. Говорять, шчо цэ хозяин лиса, лисовику або боровик” [ПА, Вышевичи Житомирской обл.]. Польские крестьяне узнавали незримого лесного духа, называемого borowieCy по лихому свисту и зычному крику, однако при рубке хвои люди слышали его скорбный плач и жалобные стоны [Ваrаnowski 1981, s. 160; Sychta, I, s. 57-58]. Резкие птичьи крики, стрекотанье, всплески воды белорусы приписывали болотнику, который якобы “реве як корова”, “кракае по-качынаму”, “булькае нiбы цецярук”, “выбухае рогатам чалавечага голаса” [М1фы, с.8]. Мифический горный старец русских украинских поверий, почитавшийся хозяином гор, тоже пугает людей гулким эхом, ревом, свистом (Власова 1995, с. 119].
Сходные звуковые характеристики отличают и поведение водяного. Согласно общеславянским представлениям, его можно узнать в ночной тиши по шумному поведению у воды: громкому крику, хохоту, уханью, визгу, вою, стону, свисту, ржанью, кряканью, хлопанью в ладоши, шлепанью по воде [СД, с. 397]. Типичными акустическими признаками водяного духа считается также то, что он окликает, призывает, заманивает в воду свою очередную жертву. В соответствии с полесскими свидетельствами, “топлэнык гукае на озере, пока возьме, хто ему нужны. Буде крычати вечером цы у ночы: “Ого-го-о! Иван!” – гукало у нас на озере” [ПА, Нобель Ровенской обл.]. Один из самых популярных сюжетов севернорусских быличек о водяном повествует о том, что водяной показывается из воды на месте, где должен утонуть человек, и тоскливым голосом извещает: “Судьба есть, а головы нет!” или “Есь рок, да человека нет!”, – после чего на этом месте непременно кто-нибудь тонет (Власова 1995, с. 103]. Идентичные формулы-призывы, адресованные жертве водяного, известны в поверьях западнославянской традиции.
Неясные пугающие звуки могли принадлежать и неким безымянным духам. О таких наводящих ужас отзвуках говорили: “шчось гукае”, “пужае”: “На Петра нельзя ходить в лес, там пужае. Хто на Петра ходиу в лес, дак гукае и гугае: “О-гой! О-гой! Да хадзи дамой! Хадзи дамой!” А хто его знае, хто крычыць… Може, етый Петро, яго голас. А некатбрые гавбраць, ето зямля абзываецца” [ПА, Комаровичи Гомельской обл.]; “В лесу што-то пужае. Господь Бог знае, хто пужае. Стукае, а бачыць не бачыш, гукае! Ты идеш, а воно гукае: “Во-во-о!” Крычыць моцно, голекае… Кажуць, у году дванаццать раз так пужае” [ПА, Замошье Гомельской обл.].
Вполне определенный звуковой портрет характеризует образ восточнославянской русалки. Хотя временем её встречи с людьми не обязательно признавалась ночь, однако и в дневное время в ржаном поле, в лесу, у воды незримое присутствие русалок часто определялось по их звуковому поведению. В Полесье оно описывалось следующими глаголами и выражениями: “русалки гудят”, “пищат”, “кричат”, “хохочут”, “у далони ляскают”, “гикают”, “ихкают”, “рогочут”, свистят, как иволга. Подобно тому, как менялось поведение русалок, имеющих вид привлекательных девушек или старых уродливых баб, так же могло различаться и их акустическое поведение. Запугивая человека, они ревели коровьим голосом, ржали по-лошадиному, кричали по-птичьи, “гикали”, качаясь на березах, а заманивая прохожего в лес или в воду, способны были призывно смеяться, красиво петь, манить чарующим голосом.
В Полесье, где русалки последовательно осмыслялись как души умерших детей или девушек, звуковые особенности поведения выдавали их иномирную природу как “нежити”: “Они тольки так гулй: “Гм-гм-гм!”, – приглашали с собой на той свет”; “Яны тольки гудуть, не можна разобрать (слов), цэ ж мэрлые” [ПА, Копачи Киевской обл.]; “Из жыта русалка вылазить и так: “Гу-гу-гу!” – гуде… крыкнула таким голосом поганым” [ПА, Злеев Черниговской обл.]. Признак немоты отразился в одном из локальных названий русалки: нимка [ПА, Олтуш Брестской обл.]. Соответственно её звуковое поведение описывается в этой местности как угрожающее бормотание: “Ним-ним-ним, заберу с собой!” [там же].
Одним из наиболее традиционных акустических знаков, характеризующих поведение русалки, выступает пение: “идут через поле и ноют”, “русалкы спивають, як никого нема, а як побачат кого – смеюцца” [ПА]. В восточном Полесье фиксировались поверья о том, что русалки “пеють вельми красиво”, что они “сильно голосисты були” и даже что “яни песни слагали, те што мы поём” [ПА]. Сходным образом ведут себя русалки русских поверий: “русалки на реке ноют песню, а то вдруг как засмеются!”; рыбаки ночью слышали: “девка поет и поет, потом всплеск слышим… бульк в воду! И ушла” [Зиновьев 1987, с.51-52].
В украинско-белорусской традиции известны даже особые “русалочьи” песни, которые она якобы любит распевать. Имеются в виду припевки, содержащие формулы ритуальных запретов, соблюдаемых людьми на Русальной неделе: “Не сей муки над дежою, не пей воды над водою!”, “Не трый нужка об нужку и не сий муки на дижку, и не держы лопаты у хаты, 6о буде важко конаты!”, “Не сей муки над дежэю, не кладися над межэю, не печи хлеба на листу, 6о будеш бачити беду!” [ПА].
Хотелось бы обратить внимание на такой любопытный факт, что пение и музыка в народных поверьях осмысляется как один из устойчивых акустических стереотипов, характеризующих поведение нечистой силы. Это значит, что к набору неординарных – странных, таинственных, тревожных, пугающих – звуков (резкие крики, зычный голос, оглушительный свист, хохот, вой, шум, визг и т. п.) носители традиционной культуры причисляют и завораживающие музыкальные звуки.
Страстная любовь к музыке и пению приписывается многим мифологическим персонажам. Согласно польским верованиям, “подменыш” выдает свою иномирную природу тем, что “все время поет”; чарующим голосом якобы обладают “лесные панны”, “морские девы”, “мелюзина”, “богинка” [Moszyriski 1967, s.599, 638]. Поющей в восточнославянской демонологии представляется кикимора, полудница, св. Пятница. Дух-обогатитель болгарских поверий мамниче, выведенный хозяевами из особого яйца, во время полета невидим, но издает чудесные звуки, услышав которые, люди спешно затыкали уши, боясь потерять сознание или умереть от этих звуков [Георгиева 1993, с.226].
Показательны в этой связи широко известные у всех славян запреты петь, свистеть, кричать, аукаться, а также отвечать на чужой голос, так как подобными действиями человек якобы привлекает к себе духов и отдаёт себя в их власть (ср. полесскую мотивировку соответствующего запрета: “Нельзя петь в лесу – песнями прикликасшь черта” [ПА, Ветлы Волынской обл.]). Считается, что на звуки музыки и пения приходят черти, лешие, вампиры, гномы, самодивы, вилы и др. персонажи. О гудении мошкары, слышимом в вечернем воздухе, в Закарпатье говорили, что это “поют душечки”: “Брынят красно, що ни одну нэ выдко. То мы говорим: “Слухайтэмэ, як душэчки спивают!”” [КА, Грушево Тячевского р-на].
Способность петь чарующим голосом приписывается в хорватских поверьях мифической домовой змее, которая глубокой ночью якобы выползает из своего укрытия и начинает красиво петь. Отголоски игры на музыкальных инструментах и пения, слышимые в троицкий период, по представлениям болгар, были свидетельством пребывания на земле самодив. Заночевавшие под открытым небом косцы утверждали, что всю ночь слышали музыку и звуки свирели: “Цела нощ – каа – чувам музики, свират, това са самодиви” [Мицева 1994, с.43]. Точно таким же акустическим знаком характеризуется незримое присутствие среди людей караконджулов, которые в святочный период по ночам бродят по улицам, “идат, свирят, свирят, свирят, пеят, играят…” [там же,с.75].
Музыкальными звуками выдавали себя персонажи нечистой силы как в пространстве дома, так и за пределами жилья. В русских быличках очень популярен мотив о ночующих в пустой избе путниках, которым не дают спать необъяснимые звуки музыки и пляски: “Не успел уснуть , слышу – музыка заиграла, пляска поднялась! Прямо, говорит, чечетку выбивают, пляшут . Чиркнул спичку – нету никого” [Зиновьев 1987, с. 87]. Любительницей песен и плясок выступает в восточносибирских мифологических рассказах кикимора, которая пугает ночующих в избе чужаков тем, что всю ночь поет “Располным полна коробочка” да стучит ногами по половицам. Сходным манером леший пытается согнать со своего пути заночевавших в лесу охотников: “Вот только легли – кто поёт! Поёт “малинушка-калинушка”, песню…” [там же, с.27]. Во всех этих случаях музыка осмысляется как знак угрозы и недовольства со стороны мифологических персонажей.
К музыкальному коду звуковых стереотипов примыкает еще один – универсальный для славянских демонологических поверий – звуковой комплекс, который символизирует движение шумного свадебного поезда. Согласно русским быличкам, оставшийся на ночь в лесу человек, нарушивший правила взаимоотношений с “хозяином” леса, непременно услышит среди ночи звуки едущих повозок: “свистит, гремит, колокольцы брякают, и даже, говорит, слышно, что кони – бух-бух – вроде свадьба, – песни распевают, гармошки играют. О-е-ей!” [там же, с.48-49]. Подобными звуками выдают своё присутствие черти, болотник, полудник, вампир и другие духи.
По многочисленным полесским свидетельствам, черти слывут “большими музыкантами”: “В лесу буде ехать, шчо свадьба такая. Музыка играе, песни поют, повозки скрипят, – а люди не бачат ничого! Даже : по деревне проезжали повозки з музыкою. А хто проезжае – не бачым. Доедет до кладбишча и исчезнет… Это до двенадцати ночи” [ПА, Дяковичи Гомельской обл.].
Человек, желающий увидеть чёрта, – как рассказывали поленгуки, – должен был пойти ночью в лес и громко свистнуть или запеть,– тут же в ответ заиграет музыка, засвищет и явится чёрт. Звуки, символизирующие шумный свадебный поезд, в Полесье тоже воспринимались как предостережение неправильно себя ведущим людям: “Раз я пошла по ягоды у неделю, – а это грех! Пошли у болото, бером клюкву, чуем: „Го-го-го!” – и як музыка грае, визжат, крычат разными голосами. Мы думаем – свадьба еде” [ПА, Тонеж Гомельской обл.].
Неожиданные звуки музыки в лесу или поле могли толковаться как появление на земле душ умерших: во время жатвы женщина услышала, как “музыка десь грае, да так, бы ветер котицца. Да, каже, бегуть тые мэртвые. Дак баба стала молицца Богу, каже, што ето уже мэртвых вяселле, то мэртвые женяцца” [ПА, Стодоличи Гомельской обл.].
По болгарским верованиям, невидимые существа инджерлии, появляющиеся в святочный период, по ночам выдают себя звуками музыки и движущегося свадебного поезда. Таковы же акустические признаки появления женских мифологических персонажей, называемых злины или юды, которых нельзя увидеть, но слышны их голоса, звуки музыки, как на свадьбе [Пирински край, с.471).
Материал представленных выше поверий может быть дополнен наблюдениями этнографов над поведением участников ряженья, изображавших персонажей нечистой силы. Именно танец оказывается наиболее предпочтительным “языком” ролевого перевоплощения ряженых, демонстрирующих ритмические движения как одно из коренных свойств поведения демонических существ [Ивлева 1994, с. 145]. Можно вспомнить в этой связи известные в западноевропейских мифологических рассказах сюжеты с описанием “пляски смерти”.
Ещё более выразительным средством акустической характеристики нечистой силы, кроме отмеченных выше звуковых стереотипов, служит речевое поведение. Особенностям речи демонических существ посвящён специальный раздел в работе О.В. Санниковой, касающейся польской демонологии, в котором проанализированы её основные приметы и свойства: необычность, непонятность, загадочность, искажение привычных форм, удвоение реплик, подражание эху, другие отклонения от нормы – косноязычие, заумная речь, невнятное бормотанье или, наоборот, быстрая складная речь, говорение в рифму и т. п. [Санникова 1994, с. 72-81]. Эти наблюдения, сделанные преимущественно на польском материале, находят многообразные подтверждения в других славянских традициях.
Необычность речевого и звукового поведения мифологических персонажей проявляется прежде всего в разного рода криках, зовах, окликаниях, междометных возгласах, протяжных звуковых сигналах, нечленораздельном бормотании. Согласно полесским данным, русалки, появляясь на Троицу, издают либо звучные однотипно повторяющиеся возгласы (“Огэ-огэ-огэ!” “Гу-та-та!”, “Шу-ги, шу-ги!”), либо приглушенное невнятное бурчание (“Гм-гм-гм”, “Ним-ним-ним”). Аналогичные крики приписываются лесным, полевым, водяным духам, неприкаянным блуждающим душам умерших, безымянным мифическим существам: “Гукйло страшно на озере – “ого-го, ого-го!””; “крычыть в лесу, моцно голёкае – “Во-во-о!”” [ПА].
Пронзительные резкие выкрики и возгласы – традиционные знаки поведения болгарских персонажей (самодив, навяков, вампиров, караконджулов): “А-ха-ха, а-ха-ха!”, “Хи-и-и, хи-и-и!”, “Оу-ау, оу-ау!”, “Блу-блу-блу!”, “Дум-дум-дум!” [Мицева 1994, с.83,90, 139, 158].
Принцип повторения однотипных звуков часто сочетался с приемами зарифмованности акустической формулы. По болгарским поверьям, навяк выдает себя криками: “мяу-вяу, мяу-вяу!”, вампир любит приговаривать: “трънга-мънга, трънга-мънга!”, караконджул издает непонятные возгласы: “стрико-лико, стрико-ли- ко!” или “там-па-ра, тум-па-ра!” [там же, с.88, 102, 136; Георгиева 1993, с. 192]. С помощью подобных приговоров-бессмыслиц демонические существа пытаются запугать человека или сбить его с толку. Например, в полесской быличке рассказывается, как чёрт старается сбить человека, произносящего молитву: “То не так! То не так! Луки-перелуки, луки-перелуки!” [ПА, Возничи Житомирской обл..].
Повтор как наиболее универсальный прием, характеризующий речевое и звуковое поведение “чужого”, проявляется в самых разных речевых ситуациях. Выше уже отмечалась манера лешего повторять слова собеседника, уподобляясь эху: он любит морочить встречного, показываясь в облике его знакомого; на вопрос путника: “Куда пошёл, Демид Алексеевич?”, леший подсмеивается: “Куда Демид пошёл? Куда Алексеевич пошёл?” [Криничная 1993, с.9]. Большую популярность имеет восточнославянский мотив о чёрте, который встречается путнику в виде овцы, барана, свиньи, гуся и на призывный клич человека: “Бяша, бяша!”, “Баруська, 6аруська!”, “Гусочка, гусочка!” – отзывается жутковатым эхом, в точности копирующим призыв человека, обращенный к животному. Подобным же образом ведет себя банник, который показывается хозяйке в виде черного кота: “Я говорю: “Кыс-кыс-кыс-кыс!”, а он тоже” на меня глядит да: “Кыс-кыс-кыс-кыс!”” [ЖСт 1995, №2, с. 39 – вологодское свидетельство].
С помощью повтора легко моделируются ритмически организованные формулы, включенные в приговоры или припевки, которые приписываются персонажам нечистой силы. О чертях, подталкивающих людей к самоубийству, в Полесье рассказывали, что если человек кончает с собой ночью, то они якобы радуются и, танцуя, припевают: “Наш ношник, наш ношник!”; если же кто-то “удавится” днём, то черти поют: “Наш деншчык, наш деншчык!” [ПА, Картушино Брянской обл.].
Согласно болгарским быличкам, припозднившийся путник, едущий на коне, мог защититься от глуповатого караконджула тем, что весь с головой закрывался рогожей и замирал в неподвижности. Встретившийся ему злой дух ощупывал в темноте коня и недоуменно бормотал: “Я и коня, я и панагоня – човека нема! И коня, я и панагоня – човека нема!” (т. е. “Есть и конь, есть и на коне, а человека нету!”) [Мицева 1994, с. 87]. Подражая действиям овчара, который печет на костре мясо и поливает его жиром, караконджул беспрестанно повторяет: “Чико пече пеце – меце и я пека пеце – меце” (искаженная фраза, обозначающая: “Дядя печет мясо, смазывая, и я пеку мясо, смазывая” [там же, с. 97]).
Персонажам нечистой силы в народных верованиях приписывается искусство говорить зарифмованной речью, что тоже является свидетельством сверхъестественных способностей духов. Например, в украинско-белорусских быличках русалка любит напевать или произносить загадочные реплики и куплеты. Качаясь на березе, она поет: “Ута-та-та, на Петра матка сыру испекла” [ПА, Верх. Жары Гомельской обл.] или: “Мене мати уродила, нехрещене положила” [Украiнцi, с. 396]. При встрече с людьми в поле русалка пугает их непонятными возгласами: “Ух, ух! Соломьяный дух, дух!” или “Хрен да полынь, плюнь да покинь!” [ПА, Вышевичи Житомирской обл.].
В одном из сюжетов популярных полесских быличек о русалках описывается, как человек в Троицын день полез на дерево (нарушив соответствующий запрет), чтобы осмотреть пчелиные борти; среди пробегавших в эту пору мимо дерева русалок была умершая родственница пчеловода; увидев, что с дерева спускается до земли веревка, фиксирующая положение человека, и желая спасти его от гнева своих подруг, эта русалка крикнула ему спасительную фразу: “Род, род, пудымй повбд!” [ПА, Симоничи Гомельской обл.].
Показательно, что именно нарушение ритуальных запретов чаще всего является причиной, провоцирующей появление и речевое поведение мифологических персонажей. По украинским поверьям, если хозяйка растворит закваску во внеурочное время (накануне пятницы), то кто-то незримый якобы появляется ночью и недовольно ворчит: “Гоп, чук – наши! Брыль у кваши!” или приговаривает: “Йила б я квагу, так логы нема, лыне по хати и стины повлёпуе” (искаженная фраза, означающая: “Поела бы я закваски, да ложки нет, разолью по хате и стены заляпаю” [Украiнцi, с. 376; в серии рассказов о св. Пятнице]).
При контактах с человеком персонажи нечистой силы проявляют либо необычное красноречие, способность говорить рифмами, либо крайнее косноязычие, лаконичность, принцип же повтора при этом, как правило, сохраняется. Например, в севернорусских суеверных рассказах повествуется о том, как рыбаки случайно вытащили неводом водяного; поняв, с кем имеют дело, они спрашивают водяного духа: “Наложить на тебя крест?”, – тот отвечает: “Не, не, не!” – “Спустить в воду?” – “Да, да, да!” – “А дашь ли нам рыбы?” – “Hy, ну, ну!” [Криничная 1994, с. 26].
Об особенностях речевого поведения духов можно судить и на основании поверий о бесноватых, одержимых, икотницах, юродивых, в которых якобы вселяется нечистая сила. Одной из разновидностей кликушества в севернорусских областях считали так называемую икоту. Эта болезнь проявлялась в том, что заболевший якобы лишался дара речи, начинал “ухать”, “аукать”, кричать по-звериному, в нем – против его воли – вещал “не свой дух”: человек выкрикивал непонятные реплики, бранные выражения, неразборчивые слова и возгласы. Страдающая икотой женщина при попытке заговорить начинала выть по-волчьи, куковать, петь петухом, лаять. По наблюдению специалистов, изучавших эти поверья, дух икоты говорит голосом более высокого регистра, чем человек, в которого он вселился, и употребляет в разговоре по отношению к себе только местоимение 3-го лица. Отличительной чертой речи этого незримого духа, сидящего в человеке, является также загадочная, иносказательная форма высказываний, которая воспринимается окружающими как прорицательный знак: “Прокатят тебя, Аннушка, прокатят. Нехорошо дело будет”, “Всё одно: помирать – один день терять”, “Хозяйка замужом будет, а икоточка будет ходить в лапоточках” [Никитина 1993, с. 17].
Не вполне традиционным, но весьма содержательным источником для изучения акустической характеристики мифологических персонажей следует признать комплекс данных, касающихся речевого поведения ряженых, изображавших нечистую силу. Показательна в этом смысле речь святочных ряженых русской (уральской) традиции, которая характеризовалась не только загадочным смыслом, но и необычной формой: “Приходил к шит-пит гвоздь, приносил шиту-питу узду и повесил на шит-пит гвоздь. Ты виси, моя шита-пита узда, на шитым-питым на гвозде!” [Ивлева 1994, с. 96]. Полное безмолвие ряженого или его своеобразная “голосовая маска” (т. е. искажение нормального тембра от визгливых интонаций до нарочито низкого грубого голоса) осмыслялись как акустическое поведение, типичное для персонажей потустороннего мира. Преимущественно молчаливыми фигурами в псковских обычаях ряженья выступали покойник, смерть, немой, посланец – с того света гонец и, наоборот, шумно вели себя такие маски, как чёрт, шут, гоготун, пугавшие зрителей громким криком и хохотом [ЖСт 1995, №2, с. 37]. Требование говорить “по-кудёсьему” (т. е. необычным образом – скороговоркой или повторами) предъявлялось святочным ряженым, называемым в Вологодской губ. кудесами. “И говорят-то не по-нашему: “О-о-о-о! Кудяса, кудяса, кудяса! Идём, идём, идём, кудяса! Как живете, как живете?”” [там же, с. 40].
В заключение отметим, что звуковые формы поведения нечистой силы создают условия для идентификации мифических существ, внешний облик которых принципиально невидим или плохо различим в темноте. А – как известно – необходимость разгадать имя и сущность конкретного персонажа связана не только с потребностью корректировки поведения человека при встрече с духами (прежде всего в интересах его самозащиты), но и со стремлением разгадать загадочное явление, путающее именно своей непонятностью, ибо по-настоящему страшно прежде всего то, чему нет названия. Идентификация демона была одним из способов конкретизировать причину страха и тем самым как бы освоить неведомое и осмыслить его.
В ряду других признаков (внешних данных, традиционных действий, пространственно-временных характеристик и т. п.) акустический код является не только весьма выразительным в условиях ночных встреч с персонажами нечистой силы, но нередко служит единственным источником информации о появлении среди людей незримых мифических существ, звуковое поведение которых рождает у человека чувство страха и потребность защититься от вредоносной силы.
К сожалению, формы звукового поведения демонов весьма слабо учитываются в их персонажных характеристиках и в указателях мотивов славянских быличек. Пожалуй, более благополучно в этом смысле обстоит дело с данными, включенными в указатель мотивов финских мифологических рассказов: список акустических знаков, характеризующих эту демонологическую систему, дает большое число схождений со славянским материалом. Согласно финским свидетельствам, привидения, призраки, покойники, безымянные духи обнаруживают себя звуками неясного говора, пения, храпа, стона, плача, необъяснимой музыки, звуками скрипок, игры на органе, звоном церковных колоколов, бубенцов; отголосками движущихся повозок, шагов, топота, скрипа; звуками незримо совершаемой хозяйственной работы (звон пилы, удары досок, рубка дров, шум, гул, звуки молотьбы, прядения, тканья, удары молота, скрип вращаемого мельничного колеса и т. п.) [Симонсуури 1991, с. 50-59]. Полезно бы было учитывать особенности звукового поведения нечистой силы и в указателях славянских быличек.

 Учимся сохранять эне... 0 69 0
Учимся сохранять эне... 0 69 0 Воздействие ногами... 1 110 0
Воздействие ногами... 1 110 0 Как передать силу... 2 145 0
Как передать силу... 2 145 0 Массаж ступней ног... 3 1 к 1
Массаж ступней ног... 3 1 к 1 Самовнушение... 3 1 к 1
Самовнушение... 3 1 к 1 Биоэнергетика людей... 5 1 к 1
Биоэнергетика людей... 5 1 к 1 Распознать пробужден... 0 163 0
Распознать пробужден... 0 163 0 Мифы о пробужденност... 0 153 0
Мифы о пробужденност... 0 153 0